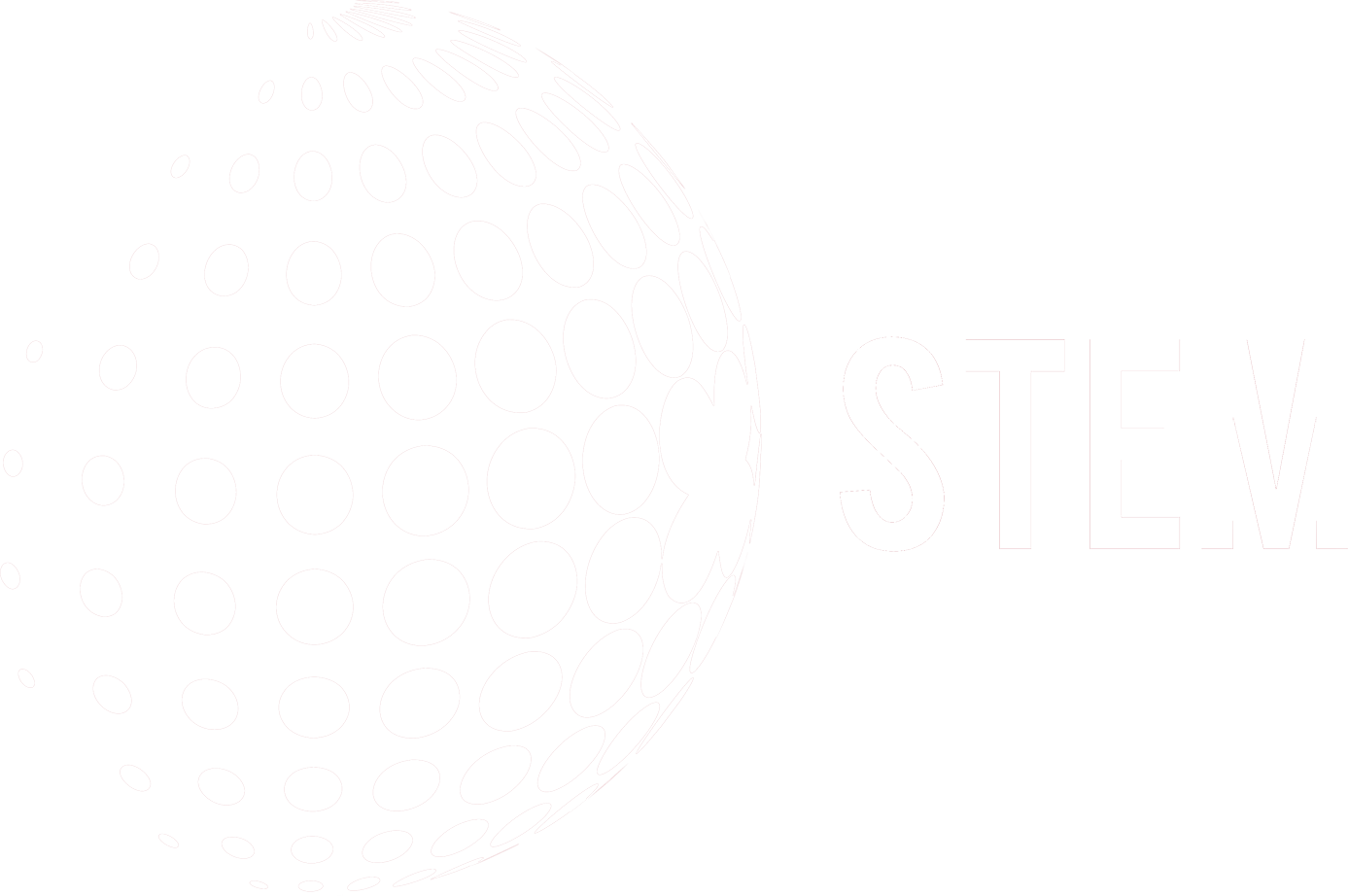STEM представляет эксклюзивное интервью с Хуманом Мадждом — иранско-американским автором и журналистом, специализирующимся на политике и обществе Ирана, автором нескольких книг, включая бестселлер The Ayatollah Begs to Differ, публиковавшийся в ведущих международных СМИ, таких как The New York Times, The New Yorker, Newsweek, а также переводчиком и неформальным советником президента Ирана Мохаммада Хатами во время его визитов в США и сессий ООН.
-В 2024–2025 годах мы наблюдали в Иране своеобразный парадокс: с одной стороны — отсутствие масштабных уличных протестов, с другой — углубляющийся кризис доверия между обществом и государством. Можно ли в этой связи говорить о том, что иранская система сместила акцент с идеологической легитимности на управляемую апатию как форму поддержания стабильности?
-Внутри инаского руководства по-прежнему существуют силы, твердо приверженные идеологии, однако после подавления движения «Женщина, жизнь, свобода» (WLF) возобладало ощущение, что системе следует занять более прагматичную позицию в социальных вопросах. Этим отчасти объясняется то, почему некоторые требования движения WLF — например, смягчение строгих норм женского дресс-кода — оказали долговременное влияние. В определенном смысле движение WLF добилось частичного успеха, показав, что государство готово ставить социальную стабильность выше жесткого идеологического контроля. Однако такая управляемая апатия имеет свою цену: растущее недоверие в обществе, которое, если его игнорировать, может со временем превратиться в скрытый, но мощный источник нестабильности.
-После событий в Газе и резкого ухудшения региональной обстановки Иран оказался в двойственном положении — одновременно и усиленным, и уязвимым. Где, на ваш взгляд, проходит граница между стратегическим влиянием Ирана и риском быть втянутым в прямое региональное столкновение?
-Я считаю, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Иран скорее стал более уязвимым, чем укрепившимся. Хотя ему удалось усилить некоторые региональные связи, прежде всего с соседями по Персидскому заливу, параллельно он столкнулся с ослаблением или фактической утратой ряда ключевых союзников, включая Сирию и «Хезболлу». Сам ХАМАС также был серьезно ослаблен и уже не способен представлять значимую угрозу для Израиля в случае более широкого регионального конфликта, что наглядно проявилось в июне 2025 года. В результате стратегическое влияние Ирана испытывает серьезное давление, а риск прямой конфронтации с Израилем — и потенциально с Соединенными Штатами — остается высоким. В этих условиях Иран балансирует на тонкой грани между демонстрацией силы и опасным перенапряжением своих возможностей в крайне нестабильном регионе.
-Вы работали переводчиком при президентах Хатами и Ахмадинежаде. На ваш взгляд, изменилась ли внутренняя логика принятия решений в Тегеране за последние два десятилетия, или система по-прежнему воспроизводит саму себя?
-Моя работа переводчиком в ООН носила скорее документальный характер — я фиксировал этот опыт для истории, которую позже опубликовал в The New York Observer. При этом я действительно работал переводчиком и неформальным советником президента Мохаммада Хатами, в том числе сопровождал его во время частного визита в Соединенные Штаты в 2006 году. Одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается Иран, заключается в том, что его политическая система в значительной степени воспроизводит саму себя. Временами она адаптируется — как это было после «Зеленого движения», заключения СВПД или протестов «Женщина, жизнь, свобода», — однако эти изменения носят тактический, а не структурный характер. В своей основе система остается практически неизменной с 1980-х годов, что и подпитывает массовое общественное недовольство и ощущение застоя, глубоко укоренившееся в иранском обществе.
- Какие формы эволюции Ирана вы считаете наиболее вероятными: постепенную авторитарную стабилизацию, внутреннюю системную трансформацию или затяжной «статус-кво с деградацией»?
-Прогнозировать траекторию развития Ирана по своей природе крайне сложно, и все три сценария остаются возможными. Постепенная авторитарная стабилизация может реализоваться в том случае, если руководство окончательно сделает ставку на контроль и безопасность, отодвинув реформы на второй план. Внутренняя системная трансформация, в свою очередь, представляется маловероятной без готовности верховного лидера санкционировать по-настоящему глубокие и болезненные изменения. Сценарий «статус-кво с деградацией» — медленное размывание институциональной устойчивости и социальной связности — может оказаться вариантом по умолчанию, если не будут предприняты серьезные корректировки курса. В конечном счете направление, по которому пойдет страна, в решающей степени будет зависеть от решений политического руководства, внутреннего давления со стороны общества и региональной динамики в ближайшее десятилетие.
- Иран остается страной с мощной культурной, интеллектуальной и исторической идентичностью. Видите ли вы сегодня внутри страны силы, способные сформулировать альтернативный проект будущего Ирана — не только политический, но и цивилизационный?
- Безусловно. Внутри Ирана существуют силы, прежде всего в рамках реформистского лагеря, которые обладают и интеллектуальным потенциалом, и демократическим мировоззрением, и готовностью участвовать в эволюции страны. Часть этих акторов из-за арестов и жестких ограничений фактически перешла в оппозицию, что лишь подчеркивает их готовность к осмысленному и ответственному вызову существующей системе. При этом их потенциал не исчерпывается политикой в узком смысле. Эти группы способны предложить и более широкий, цивилизационный образ будущего Ирана — укорененный в его богатом культурном и интеллектуальном наследии, но ориентированный на инклюзивное, современное и устремленное вперед управление. Такой проект мог бы стать точкой сборки для обновления страны и переосмысления ее места в мире.
-Многие годы вы объясняете Западу, что такое Иран, разрушая стереотипы. Какой, по вашему мнению, сегодня главный миф об Иране мешает международному сообществу адекватно понимать происходящее в стране?
-Одним из ключевых недопониманий на Западе является недооценка того, насколько глубоко иранцы чувствуют национальную гордость и преданность своей стране. Например, 12-дневная война 2005 года, инициированная Израилем и завершившаяся применением США бомб для разрушения бункеров на иранской территории, должна была спровоцировать антиправительственные волнения. На деле же иранцы в большинстве своем сплотились вокруг идеи национального единства, а не вокруг флага правительства или призывов изгнанного наследного принца к восстанию. Многие западные наблюдатели полагают, что иранцы хотят сместить режим любой ценой, тогда как на самом деле большинство стремится к изменениям на своих условиях, через внутренние усилия. В случае внешнего конфликта большая часть населения, скорее всего, объединится для защиты страны, а не будет приветствовать иностранное вмешательство против государства.
-В иранских СМИ периодически поднимаются темы, связанные с северо-западными регионами страны, включая Тебриз и другие населённые азербайджанцами территории. Почему, на ваш взгляд, эта тема всплывает во времена региональной турбулентности, а затем снова уходит на задний план?
-В Иране проживает значительное азербайджанское население, сосредоточенное на северо-западе, но также представленное и в Тегеране. К тому же нынешний президент Махмуд Пезешкиан имеет смешанное азербайджано-курдское происхождение, а верховный лидер, аятолла Хаменеи, также азербайджанского происхождения. В отличие от некоторых курдских групп, азербайджанцы Ирана с конца Второй мировой войны не выдвигали серьёзных требований к независимости или самоопределению.
Однако в многоэтническом Иране — где живут персы, арабы, курды, белуджи и азербайджанцы — всегда существует скрытая тревога, что внешние силы могут попытаться использовать этнические разногласия. Появление в СМИ тем, связанных с азербайджанцами или другими этническими группами, часто служит скорее укреплению национального единства, подчеркивая долговременную многоэтническую сплочённость иранского государства, а не стимулированию сепаратистских настроений.
-Часто подчеркивают, что речь не идет о сепаратизме, однако социальные и культурные вопросы поднимаются в политическом ключе. Где, на ваш взгляд, проходит граница между внутренними социальными проблемами и их внешней политизацией?
- Социальные и культурные вопросы в Иране часто тесно переплетены с идентичностью, религией и традициями, что делает их отделение от политики крайне трудным. Иногда внутренние дискуссии усиливаются или неверно интерпретируются внешними акторами, превращая обычный социальный диалог в воспринимаемый политический кризис.
-Некоторые аналитики считают, что внешние игроки могут по-разному интерпретировать внутренние процессы в Иране по сравнению с тем, как они воспринимаются внутри страны. Возможно ли, что Вашингтон или другие столицы видят азербайджанский фактор в Иране иначе, чем внутри самой страны? И что сейчас более опасно для Ирана: реальные внешние угрозы или искаженные интерпретации его внутренних процессов за рубежом?
-Безусловно, иностранные столицы часто трактуют внутренние иранские процессы иначе, чем они происходят на самом деле. Тем не менее, на данный момент я бы сказал, что реальные внешние угрозы гораздо опаснее, чем заблуждения или искажения. Неправильные интерпретации могут осложнять дипломатические отношения, но они не несут таких немедленных и потенциально катастрофических последствий, как прямые военные, политические или экономические угрозы извне. На практике Ирану приходится справляться с обеими проблемами, но внешнее давление сегодня является более насущной угрозой.