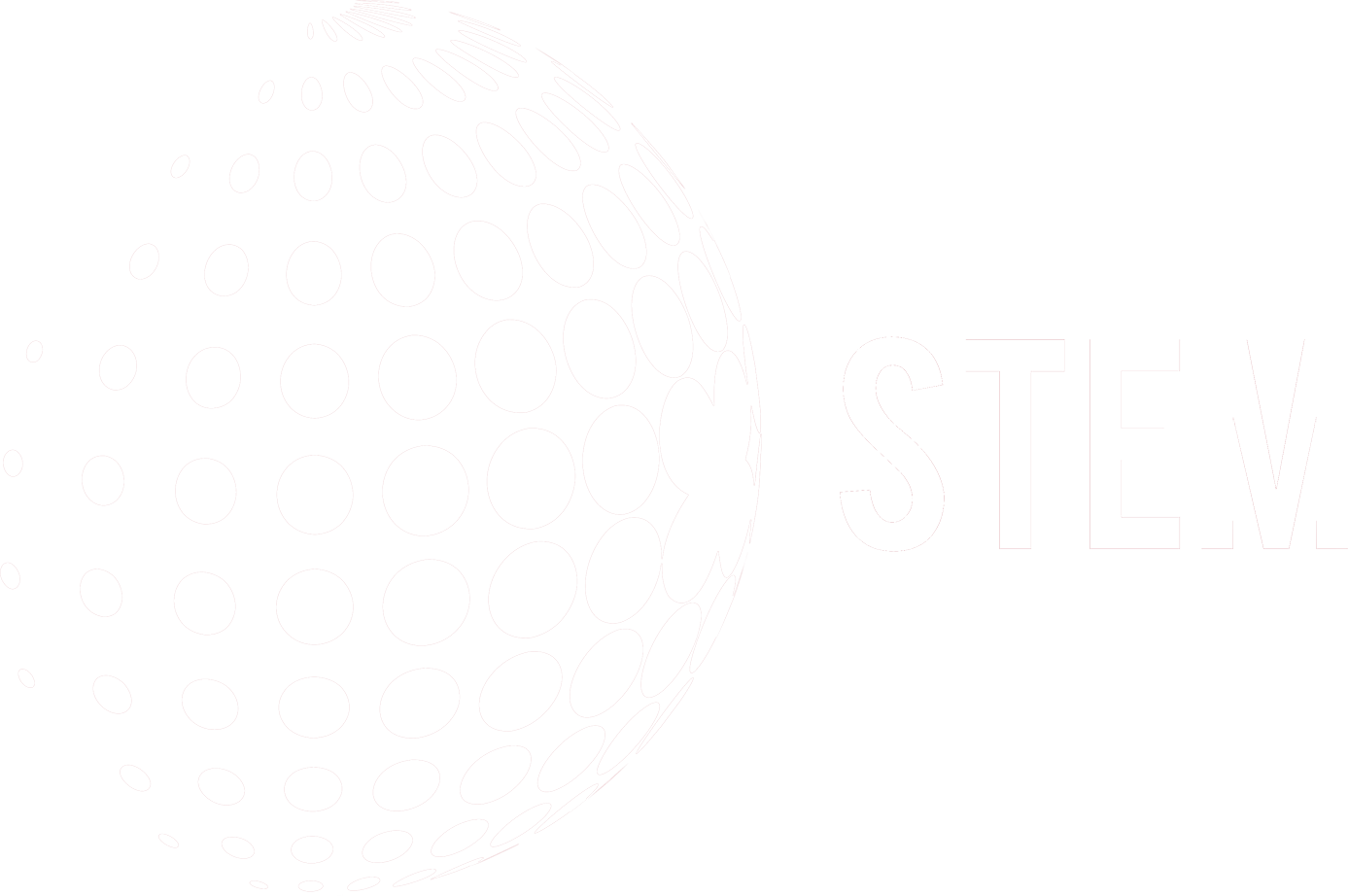STEM представляет интервью с историком, доцентом кафедры истории Ближнего Востока и исламских стран в Университете Мармара в Стамбуле и президентом Центра иранских исследований (Iran Research Center) Серханом Афаджаном.
-Как внутриполитические волнения в Тегеране соотносятся с международным контекстом американского давления после событий в Венесуэле? Видите ли вы связь между страхами иранской элиты перед внешним вмешательством и растущим общественным недовольством?
-Я не вижу прямой связи между этими двумя процессами. Параллели, которые в последние дни проводятся между Венесуэлой и Ираном, по всей видимости, не вызвали в Тегеране серьёзной тревоги. Иранские официальные лица не считают, что Соединённые Штаты способны применить в отношении Ирана тот же сценарий, который они использовали против Николаса Мадуро, и я разделяю эту оценку.
Тем не менее у происходящего в Иране на протяжении уже более двух недель есть ярко выраженное внешнее измерение — это санкционный режим США. Обвал национальной валюты и общее ухудшение экономической ситуации, которые 28 декабря вывели торговцев на улицы, напрямую связаны с этими санкциями и с политикой «максимального давления», запущенной президентом Дональдом Трампом после выхода Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как иранская ядерная сделка, в мае 2018 года во время его первого президентского срока.
-Как внутренние протестные движения могут повлиять на устойчивость режима и внешнеполитическую стратегию Ирана? Какие сценарии вы видите в ближайшей перспективе?
-Прежде всего, я убеждён, что Исламская Республика — это система, которая сохранится. Я не считаю, что нынешняя волна протестов хоть сколько-нибудь приблизилась к реальной угрозе выживанию режима. Тем не менее в высших эшелонах политической системы явно усилилось ощущение уязвимости. Всё больше людей выражают недовольство — либо самим режимом, либо отдельными ключевыми направлениями его политики, — и это развитие событий неизбежно будет иметь серьёзные последствия для будущего Исламской Республики.
При этом важно не преувеличивать масштабы социальной мобилизации: участники нынешних и предыдущих протестных волн составляли лишь меньшинство общества, а режим по-прежнему сохраняет значительную социальную опору. Однако устойчивое общественное недовольство ведёт к росту политических, экономических и силовых издержек для государства. В результате в ближайшей перспективе мы, скорее всего, увидим не радикальный пересмотр курса, а ограниченную корректировку в сфере экономического управления и внутреннего администрирования. Внешняя политика, однако, остаётся куда более сложной областью для адаптации.
Так называемая «ось сопротивления» Ирана уже понесла серьёзный урон за последние два года, особенно после 7 октября 2023 года. «Хезболла» по-прежнему остаётся ключевым игроком в Ливане, однако она была существенно ослаблена в результате продолжительных израильских военных операций и точечных ударов по её высшему руководству. Кроме того, 8 декабря прошлого года Иран лишился Башара Асада как лидера Сирии — своего важнейшего государственно-политического союзника на протяжении десятилетий, что стало серьёзным стратегическим поражением.
Хотя Иран по-прежнему сохраняет значительное влияние в Ираке, особенно через отдельные фракции в составе Сил народной мобилизации (аль-Хашд аш-Шааби), эти группировки всё чаще стремятся укрепить собственные позиции в иракской политике и действовать в более отчётливо «иракской» логике, а не как прямые проводники региональной стратегии Тегерана.
-Насколько реальна сегодня угроза прямого или косвенного вмешательства США во внутренние дела Ирана с учётом текущей санкционной и военной стратегии Вашингтона?
-С самого начала я был среди тех, кто не ожидал ни американского, ни израильского «вмешательства». Более того, президент Дональд Трамп достаточно ясно дал это понять в своих заявлениях 14 января, а уже 15 января телеканал Al Jazeera сообщил, что Соединённые Штаты передали Ирану сигнал о том, что не намерены начинать атаку. Я также не считаю вероятным, что на такой шаг пойдёт Израиль. Хотя в ходе 12-дневного противостояния в июне Израиль нанёс Ирану заметный ущерб, сам он при этом столкнулся с серьёзными рисками для собственной безопасности. Чтобы вновь пойти на подобный риск, израильское руководство должно было бы воспринимать исходящую от Ирана угрозу как масштабную и непосредственную — однако на данный момент таких оценок, по всей видимости, не существует.
В более широком плане я полагаю, что в отношениях Ирана с Соединёнными Штатами и Израилем, скорее всего, будет развиваться иная траектория. Я высказываю эту мысль уже на протяжении нескольких лет. Судя по наблюдаемым тенденциям, Иран заинтересован — насколько это возможно — в формировании устойчивого «статус-кво» с обоими этими игроками. Даже если при администрации Трампа всё же имела бы место некая американская «атака» на Иран — что я считаю маловероятным, — она, скорее всего, носила бы символический характер и была бы продиктована не столько продуманным стратегическим расчётом, сколько нежеланием Трампа выглядеть непоследовательным.
Кроме того, президент Трамп осознаёт, что его немилитаристские инструменты давления на Иран приносят результаты. Любая военная авантюра была бы чрезвычайно затратной, чреватой непредсказуемыми последствиями и несла бы для него значительные политические риски и на внутреннем фронте.
-Как, на ваш взгляд, текущие события — кризис в Венесуэле и протесты в Иране — влияют на представления о международном праве, суверенитете и роли ООН?
-Я считаю, что международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, уже в значительной степени утратил свою убедительность и авторитет. Многие государства больше не чувствуют себя защищёнными от риска внешнего вмешательства и не уверены в том, что реальные или потенциальные внутригосударственные кризисы могут быть разрешены мирным путём. То, что произошло с господином Мадуро в Венесуэле, было шокирующим, и всё же стоит задуматься, почему столь многие отнеслись к этому сравнительно спокойно. Ответ кроется в процессах последних десятилетий, отмеченных чередой вторжений и военных столкновений, которые постепенно сделали подобные действия чем-то почти обыденным и «нормализованным».
Это имеет мало общего с протестами в Иране как таковыми. Гораздо более глубокая проблема заключается в том, что — за редкими исключениями — Организация Объединённых Наций в значительной степени оказывалась неэффективной в реагировании на межгосударственные кризисы. В результате ООН всё чаще воспринимается как структура, неспособная гарантировать или поддерживать международный мир и безопасность — ту самую цель, которая прямо сформулирована в первой статье её Устава.
-Насколько реалистично ожидать, что Тегеран в ближайшие годы пересмотрит свою внешнюю политику или стратегию безопасности?
-Я считаю такую оценку реалистичной, однако здесь не стоит питать иллюзий. Иран будет пересматривать свою внешнюю политику лишь там и тогда, где его к этому вынудят обстоятельства. В конечном счёте речь идёт о соотношении сил и принуждении, и в этом смысле Иран ничем не отличается от других государств. Поэтому не следует ожидать всеобъемлющего или радикального разворота иранской внешней политики.
При этом я действительно полагаю, что при благоприятных условиях Иран вернётся за стол переговоров с Соединёнными Штатами, и не исключено, что в какой-то момент Тегеран попытается найти ограниченные форматы деэскалации напряжённости с Израилем. В более широком плане региональная линия Ирана — как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке — будет формироваться под воздействием меняющихся обстоятельств и, скорее всего, будет эволюционировать постепенно, а не через резкие и внезапные повороты.
-Каких долгосрочных изменений можно ожидать в отношении Ирана в контексте давления со стороны США, сотрудничества с Венесуэлой и влияния России и Китая?
-Следует ожидать как внутренних, так и внешних последствий. Внутри страны Иран претерпевает постепенные трансформации, и правящая элита, по-видимому, пытается — хотя и в недостаточной и неравномерной мере — адаптироваться к реалиям изменяющегося общества. Например, после протестов, связанных с гибелью Махсы Амини в 2022 году, повседневные социальные практики заметно изменились: сегодня женщины в Иране больше не чувствуют себя полностью обязанными носить хиджаб. Однако это лишь небольшая часть гораздо более широких и глубоких требований общества.
На внешнеполитическом уровне, по моему мнению, Иран пока не получил от России или Китая того, чего ожидал, ни в экономической сфере, ни в области гарантий безопасности. В настоящее время США остаются единственным международным актором, способным оказывать значимое давление на Иран, способное привести к изменению политики.
-Каковы реальные масштабы репрессий и количество жертв по оценкам независимых и правозащитных источников? Как отключение интернета влияет на проверку личностей погибших?
-Хотя точных данных о числе жертв нет, несколько источников представили оценки, которые дают общее представление о масштабах насилия. Во вторник, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщило, что примерно 2 000 человек были убиты. По данным того же источника, иранские власти объясняли эти смерти — как среди гражданских лиц, так и среди сотрудников сил безопасности — действиями, которые они называли «террористическими».
18 января, снова ссылаясь на иранского чиновника в регионе, Reuters повысило оценку числа погибших, указав, что «по меньшей мере» 5 000 человек погибли, включая около 500 сотрудников сил безопасности, основываясь на так называемых проверенных данных. Чиновник вновь возложил ответственность за смерть «невинных иранцев» на «террористов и вооружённых мятежников».
В среду, 14 января, американское агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщило, что погибло как минимум 2 615 человек, включая протестующих и сотрудников сил безопасности, а ещё 2 054 человека получили тяжёлые травмы. По данным HRANA, среди погибших 2 435 были протестующими — 13 из них младше 18 лет, 14 — гражданские лица, не участвовавшие в протестах, и 153 — сотрудники сил безопасности и так называемые «сторонники правительства». Агентство также отметило, что количество задержанных превысило 18 000 человек, и проводятся расследования в связи с сообщениями о ещё 882 погибших.
В то же время, организация Iran Human Rights Organization (IHRNGO) сообщила, что на ту же дату «по меньшей мере» 3 428 человек погибли, а более 10 000 были задержаны. В отличие от этих данных, иранские власти не публиковали полноценной официальной статистики по числу жертв. Тем не менее, в интервью Fox News в ночь на 14 января иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи охарактеризовал число погибших как «несколько сотен», добавив, что примерно 80 процентов погибших составляли сотрудники сил безопасности, полиция или «обычные граждане», якобы убитые террористами.
-Какие сигналы посылает Россия в связи с текущими протестами и возможной сменой режима в Тегеране? И какие интересы преследует Москва?
-13 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает то, что она назвала разрушительным вмешательством извне во внутренние политические процессы Ирана, добавив, что угрозы США дальнейших военных действий против Ирана «абсолютно неприемлемы».
В то же время Россия, похоже, не рассматривает ситуацию в Иране как непосредственную угрозу для свержения режима. Однако в контексте продолжающихся переговоров между президентами Трампом и Путиным по войне в Украине Москва сознательно предпочла ограничить своё участие в иранском вопросе. Тем не менее, если возникнет реальная угроза свержения режима в Иране, Россия почти наверняка попытается использовать своё влияние, чтобы предотвратить такой исход.
-Как Турция оценивает ситуацию в Иране, учитывая свои отношения с Тегераном, позицию по курдскому вопросу и собственные национальные интересы? Может ли нынешний кризис повлиять на турецко-иранские отношения?
-Существует устоявшаяся модель отношений между Ираном и Турцией, которую обе стороны в основном соблюдают, несмотря на отдельные периоды напряжённости. Эти отношения характеризуются сдержанностью как в политике, так и в риторике по вопросам, напрямую затрагивающим национальную безопасность друг друга, а также ясной приверженностью принципу невмешательства во внутренние дела. С начала протестов Анкара в целом придерживается такого подхода.
С моей точки зрения, главным беспокойством Турции является не судьба Исламской Республики как формы правления, а более широкий риск дестабилизации Ирана и возможного погружения страны в хаос. При этом Турция тщательно избегает действий, которые могли бы способствовать подобному исходу. В этом контексте критика Израиля со стороны Анкары также должна пониматься как выражение обеспокоенности тем, что Турция воспринимает как дестабилизирующее поведение Израиля в регионе. Подобная логика лежит в основе и турецкого противодействия возможности вмешательства США, хотя на данный момент такой сценарий представляется малореалистичным.
В то же время, хотя я не считаю, что Иран в настоящее время сталкивается с серьёзной угрозой краха, сценарий широкомасштабного хаоса создал бы гораздо более серьёзные региональные вызовы, чем те, с которыми сталкивались Ирак или Сирия. Такое развитие событий, скорее всего, вызвало бы внутренние конфликты, породило значительные потоки миграции и расширило бы пространство действий для некоторых террористических группировок. Хотя ситуация пока не достигла этого уровня, эти соображения явно формируют оценки безопасности Анкары.
Соответственно, заявления министра иностранных дел Хакана Фидана от 9 января и официального представителя правительства от партии AK Омара Челика от 12 января особо подчёркивали важность стабильности Ирана и предупреждали о рисках, связанных с хаотическим расколом. Повторное подтверждение этой позиции господином Фиданом 15 января ещё раз подчеркнуло противопоставление Турции любой форме внешнего вмешательства, включая возможность удара со стороны США. Несмотря на то что Анкара полностью осознаёт глубинные экономические и политические проблемы Ирана, характер двусторонних отношений ограничивает позицию Турции лишь акцентом на том, что эти вопросы остаются внутренними делами Ирана.
В целом я не оцениваю нынешние протесты в Иране как острую угрозу для безопасности более широкого региона. Однако погружение страны в хаос почти наверняка вызвало бы дестабилизирующие последствия — прежде всего в виде миграционного давления, затяжной внутренней нестабильности с региональными последствиями и расширения возможностей для террористических группировок. Даже если такой сценарий пока остаётся отдалённым, перспектива подобных исходов продолжает формировать и определять обеспокоенность Анкары вопросами безопасности.
-Как нынешний кризис в Иране может повлиять на региональную безопасность — в Сирии, Ираке, Ливане, Азербайджане и Турции? Особенно в контексте сопротивления и влияния шиитских групп?
-Это принципиально разные случаи и контексты, которые следует оценивать отдельно. Однако в целом я не ожидаю, что текущие протесты окажут прямое или немедленное влияние на отношения Ирана с этими странами. Сеть шиитских групп Ирана за последние два года была существенно ослаблена, что ограничивает возможность того, что события внутри страны могут быть использованы для усиления влияния за рубежом.
Случай Азербайджана также важен и не сводится исключительно к вопросу о Зангезурском коридоре; динамика отношений выходит далеко за рамки этого единственного вопроса. За последние несколько лет — особенно после Второй Карабахской войны — стало ясно, что ни Иран, ни Азербайджан не готовы рисковать серьёзной эскалацией двусторонних отношений. Более того, в последние месяцы связи между двумя странами демонстрируют ощутимые признаки улучшения.
-Как кризис в Иране повлияет на региональную энергетическую политику и мировые рынки нефти и газа, учитывая роль Ирана как крупного экспортёра?
-Я не считаю, что недавние протесты создают какую-либо угрозу для экспорта энергоносителей. Иран даже не рассматривал возможность блокировки Ормузского пролива или принятия мер, которые могли бы поставить под угрозу проход танкеров из региона.